— Чай или кофе? — непринуждённо спрашивает меня Софья, проводив в большую гостиную.
— Кофе, пожалуйста.
Глядя на то, как девушка ловко управляется на кухне, трудно представить, что она практически ничего не видит: различает только очертания силуэтов людей, а мелкие предметы — нет, все делает на ощупь и по памяти. Подставив стул, достает с верхней полки кружку, в турку насыпает две ложки молотого кофе, наливает в нее воды и ставит на плиту.
— Я вам подогрею молоко, так вкуснее, — улыбаясь, говорит она.
По комнате разносится пряный аромат кофе. Несколько минут — и все готово, Софья поставила на стол две чашки и села напротив. Между короткими глотками горячего кофе она успевает рассказать про свой дом: сколько в нем комнат, о том, что всегда мечтала о большой кухне, просторной столовой и больших окнах. Говорит она быстро, стараясь не упустить ни одной детали. Отмечает, что ориентируется в пространстве хорошо и свой дом знает «от» и «до»: сколько шагов от лестницы до кухни, сколько — от ванной до спальни. Нет проблем и с передвижением ночью: в темноте она ничего не видит, но буквально физически ощущает препятствие. Правду говорят, что, потеряв один орган чувств, мозг обостряет работу других.

У Софьи пигментный ретинит (наследственное дегенеративное заболевание глаз. — Прим. ред.), который ведет ее к слепоте. Еще три-четыре года назад она могла прочитать таблички на стенах домов и даже разглядеть номер автобуса, сейчас уже нет: остались одни силуэты, и только при свете, без света — перед глазами темнота, так как у людей с пигментным ретинитом отсутствует сумеречное зрение. Она прошла не одного врача, и все, опустив глаза, говорили: «Это не лечится», — но недавно Софья узнала, что шанс все же есть.
Софья родилась в Иркутске в обычной семье: мама — учитель истории и обществознания, папа — шофер. Первая желанная беременность протекала хорошо, затем были легкие роды, а после торжественной выписки — несколько месяцев абсолютного счастья дома, на руках с маленькой Соней. Первый тревожный звоночек прозвенел, когда малышке было шесть месяцев, и она начала ползать. Родители заметили, что девочка не обращает внимания на яркие игрушки и не старается до них доползти, ее больше интересовали включенные лампочки, на которые она могла долго смотреть. Мама забила тревогу, а врачи успокоили: «Не переживайте, глаз формируется, подрастет, и все будет хорошо».
Но «хорошо» не становилось, становилось только хуже. Первые шаги сопровождались постоянными травмами, так как девочка, играя и бегая, не всегда замечала углы и препятствия, а после года внезапно появилось косоглазие: зрачки закатывались так, что их не было видно. Родители обратились к врачу, и опять – «ничего страшного». В больнице отмахнулись, мол, сделаете через несколько лет операцию, и косоглазие уйдет.

Косоглазие действительно исправили в четыре года, но зрение продолжало падать. Врачи, проведя очередное обследование, и в этот раз не увидели повода для беспокойства — патологий нет, а зрение скоро перестанет падать. Но не перестало. В один из визитов к очередному специалисту они услышали: «Берегите зрение, с каким зрением она вырастет, с тем и останется». И они берегли: каждые полгода Соня лежала в больнице, проходила физиотерапию, а дома, под присмотром мамы, делала гимнастику для глаз.
Диагноз поставили в пять лет красноярские врачи. «Пигментный ретинит» — прозвучало страшно и непонятно.
— Гены образуют цепочку, по которой идет белковое питание глаза. В моем случае в этой цепочке есть поврежденное звено – «ломаный» ген, и глаза не получают нужного питания, из-за чего клетки постепенно отмирают, что и приводит к ухудшению зрения. Но в каком гене поломка, тогда врачи определить не могли. То, что заболевание в моем случае постепенно приведет к полной слепоте, я узнала только четыре года назад, в 28 лет. До этого, несмотря на ухудшения, все-таки была надежда, — рассказывает Софья.
В первый класс Софья пошла в общеобразовательную школу, но учиться было сложно. Хотя тогда Софья могла еще читать обычные книги для детей с крупным шрифтом, писала в тетрадях, правда, вспоминает она, ее маме приходилось обводить ярким фломастером линии и клетки — чтобы дочка видела границы, в которых надо писать, и заботливо распечатывала ей страницы школьных учебников на листах формата А4. Тогда родители перевели ее в специализированную школу-интернат для слепых и слабовидящих детей. Болезнь прогрессировала, постепенно она перестала различать буквы в детских книгах с крупным шрифтом даже в очках, потом — видеть яркие картинки. И в старших классах ей пришлось освоить шрифт для слабовидящих.

У Софьи всегда было много друзей: ребята, с которыми она дружила в школе, и компания из соседских детей, с которыми общалась, когда возвращалась домой на выходные. Со всеми ей было легко, никто никогда не акцентировал внимание на ее болезни. Комплексы были, смеется она, но не связанные с болезнью, а обычные, подростковые, по поводу внешности, веса — все, как и у других девчонок в этом возрасте.
— Я никогда себя не чувствовала не такой, как все, — просто жила с плохим зрением. Мне не было обидно, так как родители относились ко мне как к обычному ребенку. Они старались максимально приспособить меня к нормальной жизни. Я ходила гулять, на улице со всеми играла в прятки, догонялки, каталась на велосипеде — у меня было обычное детство, да, с ограничениями, но обычное. Дома с сестрой на двоих мы делили домашние обязанности — поблажек не было, — улыбаясь, вспоминает девушка. – Даже тогда, когда поставили диагноз, и я получила инвалидность, мама не изменила отношение ко мне из-за моей болезни. Она никогда не жалела меня, она меня любила и заботилась.
Софья с шестого класса ездила из школы домой самостоятельно. От дома мама садила ее на автобус, она доезжала до центра, переходила дорогу и садилась на другой автобус, который шел в предместье Радищева. Потом метров 500 — пешком. Днем проблем не было: она видела улицу, предметы, людей, даже могла видеть номера автобусов. Вечером – сложнее: ориентировалась только по фонарям и фарам. Но при этом с тростью девушка не ходила, более того, стала ее использовать только три года назад — и то не всегда.
В школе для слепых, несмотря на специализацию, недостаточно уделяли внимания приобщению ребят к обычной жизни: учителя отвели уроки — хорошо, а то, как дети живут вне школьных стен, мало кого волновало. Тем более, педагоги плохо понимали, что днем, когда светло, Софья видит, а в темноте — нет. Им было достаточно, что учится она по плоскопечатному шрифту, а в карточке написано — зрение есть. «У нас даже незрячие ребята ходили не с тростями, а, как правило, со зрячими одноклассниками. Мальчики клали на плечо товарищу руку, а девочки ходили под ручку. Но вместе с тем именно это и научило меня быть самостоятельной, опираться на себя, не жалеть себя и не чувствовать себя ущербной», — вспоминает она.

После школы Софья поступила в ИГУ на исторический факультет, и там она познакомилась с Ваней. Начали встречаться, поженились, когда учились на третьем курсе, и стали вместе жить во Втором Иркутске в коммунальной квартире, доставшейся в наследство от отца. Работали они также вместе. Открыли свое дело и занялись натяжными потолками. Софья принимала звонки, делала расчеты, размещала рекламу, а Иван делал замеры и монтировал натяжные потолки. Через некоторое время наняли работников, и, будучи на четвертом курсе, они уже имели свою фирму с небольшим офисом и своей бригадой. Так и жили: утром на лекции, после обеда — работа.
Молодая семья мечтала если еще не о собственном доме, то об отдельной квартире. Но студентам ипотеку не дали, тогда Софья и Иван продали комнату и вместе купили участок, на котором из построек была только небольшая брусовая банька. Сделали ремонт, благоустроили и стали в ней жить. Через три года, накопив денег, начали строить свой дом, а еще через четыре — отпраздновали новоселье. Софья сделала проект дома своей мечты, а Иван воплотил ее мечту в реальность — все своими руками.
На вопрос, а не страшно ли было начинать отношения с практически слепой девушкой, Иван смеется. Он смотрит на свою жену влюбленными глазами, потом, потрепав сына по голове, отвечает:
— На самом деле, по ней с виду и не скажешь, что есть проблемы. Вот и я не понял. Настолько она была самостоятельной. Я знал, что она плохо видит, но чтобы настолько — нет. Помню, увидел ее в ночном клубе, где она была с подружками, подошел, и все — влюбился. Мы дополняем друг друга. Она невероятно умная и энергичная, с ней весело и интересно. Начинаешь разговаривать, и хочется слушать и слушать. Современные технологии позволяют ей учиться и работать. Помню, однажды мы были в другом городе, зашли в большой ТЦ, я заблудился, а она нас вывела — я не знаю, как она это делает. Она всегда знает, где мы едем в машине по Иркутску.
Семь лет назад родился сын Даня. Заботиться о новорожденном непросто даже для здорового человека, но для того, кто почти ничего не видит, сложнее в разы — но не для Софьи. Первым научился ухаживать за ребенком Иван, ему медсестры показали, как купать и пеленать ребенка, а он уж научил этому Софью, когда она вернулась с малышом домой из роддома. Иван не мог сидеть дома с женой и ребенком — надо было работать, поэтому времени на переживания и страхи у девушки не было.

У ребенка есть проблемы со зрением — астигматизм, небольшой минус, но в целом все хорошо. Еще во время беременности врачи проводили дополнительные пренатальные скрининги, чтобы выявить возможные проблемы с глазами, — патологий не было. Когда он родился, его осмотрел окулист — все в порядке. Но на тот момент до конца не была понятна причина ее заболевания, поэтому девушка боялась, что сыну могла передаться ее болезнь.
— Пришли к окулисту, когда сыну был месяц. Я называю свое заболевание и прошу врача более внимательно посмотреть глазки ребенку. Она переспросила мой диагноз, а потом спросила: «Что я должна у него увидеть?» Затем она поинтересовалась, когда мне поставили этот диагноз. Услышав, что в пять лет, сказала, что этого быть не может, раньше 15 лет его не диагностируют. Поэтому сейчас смотреть бесполезно, уверенно сказала она.
Зрение у Софьи падало постоянно, но незаметно: каждый день, каждую неделю, каждый месяц — по чуть-чуть. Это не ощущалось. Просто в один момент Софья это осознала — когда сыну было полтора года. До этого она одна не ходила с маленьким ребенком, при необходимости муж возил, и гуляли они все вместе. А однажды девушка вышла одна на улицу и поняла, что не видит дорогу. Она никогда не думала, что ослепнет, а в 28 лет впервые осознала, что впереди ее ждет слепота — эту мысль принять было намного тяжелее, чем диагноз. Были слезы, депрессия и непонимание, что дальше делать. Через некоторое время пошла к психологу, успокоилась, взяла себя в руки — ради сына, мужа, мамы, которая никогда не отчаивалась, и, в конце концов, ради себя.

В последнее время Софья стала передвигаться с тростью, хотя и с ней бывает сложнее пройти: то она в сугробе застрянет, то в щель на тротуаре угодит. «Доступная среда? — смеется девушка. — Скорее, недоступная». Вот на Карла Маркса оборудовали новые съезды на пешеходных переходах, положили тактильную плитку — и что от этого, там она ходит нечасто. Она живет в Ново-Ленино – а здесь зимой обычному-то человеку пройти сложно, что уж говорить о людях с ограниченными возможностями. Тротуары не чистят, по дороге идти опасно: здесь сугроб, тут — обрыв.
— Говорят, что сейчас в автобусах есть тактильные вывески с информацией о маршруте, то есть мне надо зайти в автобус, найти ее, а потом только принять решение — ехать на нем или нет. Как незрячий человек должен передвигаться по городу, ощупывать столбы и искать таблички Брайля? В крупных городах есть мобильные приложения (например, «Говорящий город») для незрячих с голосовым помощником, который говорит, где в данный момент находится пользователь, если на остановке — то какой автобус подъезжает. Надеюсь, и у нас когда-нибудь такое появится, — говорит она.
В автобусе или на улице Софья может кого-то случайно толкнуть, не заметив. Все реагируют по-разному, кто-то грубо выругается, кто-то не заметит. Только она все равно привыкла всегда извиняться, так как не видит: она толкнула человека или он на нее налетел. Чаще люди спокойно на это реагируют, даже не обращают внимания — ни на Софью, ни на ее извинения. Когда идет с тростью, бывает, что подходят помочь, чаще в центре Иркутска, на окраине, где она живет, — реже.
Понимая, что свет вокруг постепенно меркнет, стала с мужем искать возможные варианты решения проблемы в Интернете. И наткнулись на сообщение про клиническое исследование нового американского препарата «Лукстурна», который способен восстановить белковое питание глаза при ее заболевании и даже частично вернуть зрение. Однако тогда в программу брали только детей, так как покупку препарата финансировал фонд «Круг добра». Затем появилась информация, что бесплатно могли пройти обследование и взрослые, но только, если результаты покажут, что препарат подходит, покупать его надо самостоятельно.
— «Лукстурна» представляет собой препарат генной терапии, содержащий действующее вещество воретиген непарвовек — измененный вирус, содержащий рабочую копию гена RPE65, который после инъекции доставляет этот ген в клетки сетчатки, и испорченное звено заменяется здоровым, восстанавливается белковое питание глаз, и те клетки сетчатки, которые еще сохраняют жизнеспособность, начинают расти. Зрение улучшается у всех по-разному: у меня сейчас 0,5 % зрения, а есть шанс поднять до 5%, — поясняет Софья.
Она не могла упустить этот шанс и с сыном полетела в Москву на обследование. Было волнительно, даже страшно, но в первую очередь за сына — что если и ему передалось ее нарушение. Но опасения были напрасны: у мальчика все хорошо, и Софья вздохнула с облегчением — больше за него тревожиться не надо; а сама она наконец-то узнала, из-за какого «испорченного» гена слепнет. Выяснилось, что у нее была биаллельная мутация в гене RPE-65, на двух разных хромосомах, простыми словами: ей передался «поломанный» ген как от мамы, так и от папы. Вместе с тем, из всех заболеваний сетчатки именно этот «испорченный» ген — единственный, который лечится. Тогда и появилась надежда. Последовала череда обследований, консилиум, и через несколько месяцев ей сообщили: «препарат подходит», «лечение показано». Осталось найти деньги.

Летом Софья познакомилась с фондом «География добра», который открыл сбор на покупку этого препарата, и за семь месяцев благодаря неравнодушным людям удалось собрать чуть более семи миллионов рублей. Надеясь на помощь властей, девушка дважды обращалась в региональный Минздрав, фонд «География добра» — к губернатору Иркутской области с просьбой выделить деньги на лечение. Во всех случаях получила отказ. Сейчас семья готовит документы, чтобы в судебном порядке получить деньги от Минздрава. Между тем, в Иркутской области с подтвержденной такой мутацией она одна; в России взрослых, кому подходит этот препарат, — десять человек.
У девушки есть мечта — объездить всю Россию. Она уже побывала в нескольких городах — Владивосток, Омск, Москва, Санкт-Петербург, а летом с семей ездит в гости к сестре в Геленджик. Ее заболевание ничуть не мешает ей путешествовать, как говорится, — все проблемы в голове. Между тем всего-то два «волшебных» укола и она сможет пройтись по улицам незнакомого города без трости.
Софья не знает, когда смогут собрать нужную сумму — и успеют ли? А если не успеют, будет жить как жила. «Несмотря на болезнь, я абсолютно счастлива, — говорит она. — У меня есть семья, есть воспоминания, которые никто у меня не отнимет. Но я надеюсь на лучшее и буду бороться до конца».
Сбор средств на покупку препарата «Лукстурна» ведет фонд «География добра». Помочь Софье можно на сайте фонда.
Анастасия Маркова, IRK.ru
Фото Маргариты Романовой
Анастасия Маркова, IRK.ru



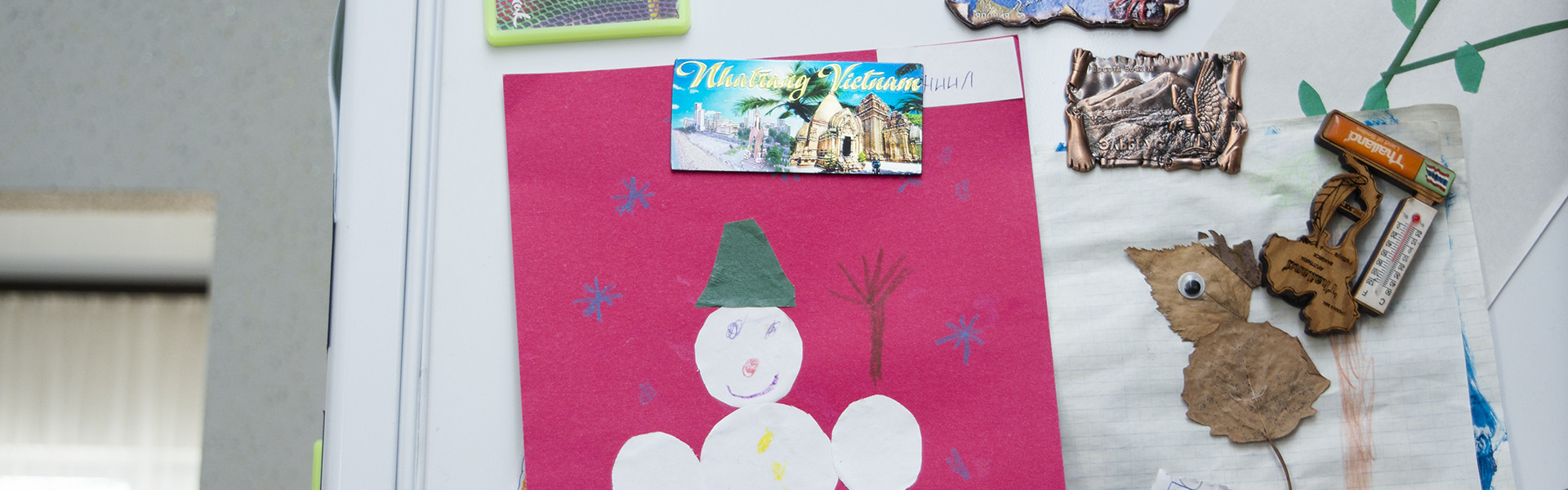







-

Трололо
12 декабря 2023 в 10:34
Чтобы оставлять реакции нужно авторизоваться
Загрузить комментарии«Несмотря на болезнь, я абсолютно счастлива», — говорит она.
- Человек абсолютно счастлив. Я о себе такого сказать не могу…. А ещё кто-то из горожан может так сказать о себе?